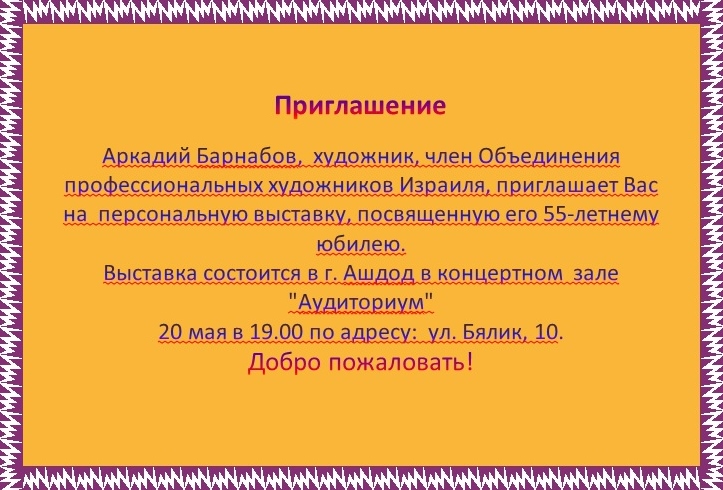Когда-то Хана Сенеш писала: «Да славится спичка, сгоревшая, чтобы разжечь». Пламя ивритской поэзии уже разжено. Сберечь его горячее трепещущее сердце помогает «Дом поэта» (рук. Рина Левинзон) при поддержке Иерусалимского общинного дома.
23 августа 2000 года в Общинном доме состоялся литературный вечер “Иврит поэзия. Поэзия иврита”. Звучали стихи Рахель, Эстер Рааб, Ханы Сенеш, Зельды, Леи Гольдберг на иврите и в русских переводах. Рина Левинзон рассказывала об их творчестве, в свойственной поэтессе манере, светло, увлеченно, поэтически высоко.
Чем определялся круг авторов, представленных на вечере? Прежде всего, их принадлежностью к художественному крылу женской поэзии, эстетическая высота которого давно не вызывает сомнения. Отсюда всенародная известность их литературного наследия в Израиле. И было еще одно - очень важное для русскоязычной аудитории - принадлежность некоторых из ивритских поэтесс к России, сам феномен восприятия и осмысления ими иврита , наконец, овладение этим языком как выразительным средством искусства слова.
Своеобразие их поэтического творчества, трагичность жизненных перипетий
во многом обусловлены самим существованием таких материально-духовных субстанций, как Эрец-Исраэль и Россия. Взаимотяготение и взаимоотталкивание этих субстанций стало определющим стержнем их поэтических судеб, породив потребность творить на языке великой Торы, ибо само осознание гармоничности бытия , запечатлевшееся в их художественном слове, пришло лишь с ощущением себя в сионизме.
Когда говорят о женской ивритской поэзии, то первой, без сомнения, называют Рахель (1890 - 1931), не добавляя ничего, как к имени прародительницы всего человечества. Песни Рахели в Израиле знает каждый - от мала до велика – независимо от эстетических вкусов и пристрастий. Она - для всех. Она - народный поэт Эрец-Исраэля, хотя родилась в России, в Саратове. Впитала несокрушимую силу Волги, чтобы здесь воспеть Киннерет. Училась в Москве и писала стихи по-русски, словно для того, чтобы мощь и виртуозность русского стиха перенести в стихи на иврите. До конца жизни обожала русскую поэзию, особенно женскую. Не удивительно, что Рахель Блувштейн стала переводчицей творчества Анны Ахматовой на иврит. Быть может, именно эта , присущая только поэзии Рахели, изысканная и до обыкновенности простая ахматовская струна, с ее замедленными, словно набирающими эмоциональные обороты, мерно раскачивающимися ритмами, сделала творчество Рахель новым явлением в ивритской литературе:
Может быть, ничего не бывало на этом веку:
Не вставала с зарей, не косила травы на лугу
И в те долгие дни, средь горячих снопов золотых,
Может быть, никогда и не пела я песен своих,
И в озерную синь не бросалась навстречу волне…
Мой Киннерет, ты был или просто приснился во сне.
(Перевод Рины Левинзон)
Женская ивритская поэзия, подобно русской , - явление уникальное по гармоничности, создаваемой посредством взаимодополняемости одного автора другим. Как в русской поэзии Ахматова и Цветаева уравновешивали друг друга, так в ивритской - лиричность Рахель дополнила мужественность стиха Зельды (1914 – 1984) , интереснейшей ортодоксальной поэтессы, которая так же, как и Рахель, родилась в России, правда не на Волге , а в былинном Чернигове, в семье почтенного раввина. С 1925 года Зельда Шнеерсон-Мошковская - в Палестине. Здесь, в Иерусалиме она закончила учительскую семинарию, а позже на протяжении многих лет преподавала литературу в школах, шлифуя и собственный художественный вкус. Быть может, именно поэтому ее первый поэтический сборник вышел, когда будущей народной любимице было уже 53 года. За тридцать последующих лет , творчество поэтессы стало популярным едва ли не во всех читательских кругах , став неотъемлемой частью ивритской культуры, сформировав у израильтян духовную потребность в самом звучании ее стихов, ассоциирующихся с исторической памятью нации:
У каждого человека есть имя,
Данное ему Богом,
Данное ему матерью и отцом…
У каждого человека есть имя, данное ему врагами его,
И любовью его.
У каждого человека есть имя, данное ему праздниками его, и трудами его.
У каждого человека есть имя,
Данное ему временами года, и слепотой его.
У каждого человека есть имя,
Данное ему морем,
И данное ему смертью его.
(Перевод Рины Левинзон)
«У каждого человека есть имя…» – в «День Памяти» повторяет всякий израильтянин во след стихам поэтессы и не смеет забыть ни одного…, как не забыть отныне и имя Зельды, взятое из языка идиш, раздражавшее в России, и поначалу вносившее свои неудобства в Израиле…
И еще звучали стихи Леи Гольдберг (1911 - 1970 ), судьба которой также связана с Россией. Лея Гольдберг родилась в Кенигсберге, раннее детство провела в России. Октябрьская революция стала рубежом в жизни ее семьи, которая в 1918 году была вынуждена переехать в Ковно, где Лея закончила ивритскую гимназию. Потом - университеты в Берлине и Бонне и защита докторской диссертации по философии. С 1935 года Лея Гольдберг на земле Палестины. В 1935 году выходит первый сборник ее стихов, встреченный необычайно тепло читательской аудиторией. С 1952 года и до конца жизни Лея Гольдберг возглавляла созданную ею кафедру сравнительного литературоведения в еврейском Университете, была членом-корреспондентом Академии языка иврит. Кроме стихов Лея Гольдберг писала и публиковала прозу, переводы со многих европейских языков, книги по теории литературы. Ее перу принадлежат многочисленные статьи о русской классической литературе, вдохновлявшей к созданию собственной классики:
Да что уж там, обычный день с утра,
Такой же день, каким он был вчера,
Ничем от дней других неотличим,
Как зло не отличают от добра.
Но только солнце пахнет, как жасмин,
И только в камне слышен сердца стук,
И вечер ярок, словно апельсин,
И у песка влюбленные уста.
Как мне запомнить этот день из дней,
Как сохранить всей памятью своей
Все запахи его, все чудеса,
Все то, что суть от сущности моей.
И каждый тополь - парус на ветру,
У тишины - девчоночьи глаза,
У слез моих - цветенья аромат,
И город назван именем любви.
( Перевод Рины Левинзон)
Как известно, уход из жизни каждого человека - трагедия, и трагедия - вдвойне, если человек молод и к тому же - поэт. Но есть одна закономерность, если это настоящий человек и настоящий поэт, то в устах человечества очень быстро стихи превращаются в песни, а память о реальном творце амальгамируется в легенду. Такова биографическая и поэтическая судьба Ханы Сенеш (1921 – 1944) , внутренняя энергия стихов которой едва ли не изначально предполагала песенно-легендарный исход. Хана Сенеш родилась в 1921 году в Будапеште. В 1939 году она приехала в Палестину , гда работала в киббуце, мечтая о будущем новой родины, веря, что, помимо рук и стиха есть у нее еще одно духовное орудие - молитва:
Господь, мой Бог,
Пусть все это длится века –
Шуршанье песка,
Воды колыханье,
Ночное сиянье,
Молитвы строка.
(Перевод Рины Левинзон)
Мечтая хоть чем-то помочь своим венгерским единокровцам, в годы Второй мировой войны она идет в бойцы британской армии и с отрядом партизан возвращается в Европу в надежде добраться до Будапешта, где осталась ее мать. Однако недалеко от югославской границы Хана была схвачена фашистами, брошена в тюрьму и подвергнута пыткам. 7 ноября 1944 года девушку казнили, когда ей было всего 23 года. Так «Дорога на Кейсарию», как и другие стихи Ханы Сенеш , оказалась длиною в жизнь песни:
При кострах, при огне, при пожаре войны
В дни кровавые нашего века,
Я фонарик возьму у кого-то взаймы,
Чтоб найти, чтоб найти человека…
Дай мне, Господи, знак, положи ту печать,
По которой в наш огненный век
Свет лица дорогого смогу я узнать
И скажу : « Это он - человек.»
( Перевод Рины Левинзон)
В 1950 году останки поэтессы были перевезены из Будапешта в Израиль и перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Лишь в 1993 году венгерский суд «оправдал» Хану.
Будучи необычайно литературно одаренным ребенком, с семи лет будущая поэтесса писала стихи на венгерском языке. «Национальные песни», воззвание «К нации» классика венгерской литературы Шандора Петефи словно готовили Хану к осмыслению формулировок и их художественного воссозданию о своей нации - еврействе. В 1940 году появилось первое стихотворение на иврите… и потом - много стихов - на иврите, стихов, переплавившихся в историческую память евреев, Знаменитая «Да славится спичка» иллюстрирует документы музеев катастрофы - «Яд Вашем», возвращающий нас к тем временам, когда территория Палестины находилась под мандатом Англии:
Да славится спичка – сгорела, но пламя зажгла,
Да славится пламя – чья пламенность в сердце вошла,
Да славится сердце, сумевшее пламя сберечь,
Да славится спичка, сгоревшая, чтобы разжечь.
( Перевод А.Воловика)
Хана Сенеш осталась в ивритской поэзии, как «свет лица дорогого» «в наш огненный век», отточивший черты человека…
Наконец, творчество Эстер Рааб (1899 – 1981) - ставшей, в отличие от предыдущих авторов, первой в полном смысле израильской поэтессой – израильской - по месту рождения (Петах-Тиква) и гармоничности духовных исканий. Коренная израильтянка, знавшая на этой земле все - имя каждой птицы, цветка, мошки или колючки. Ее поэзия не похожа на стихи Рахели, мелодичные и напевные. Ее поэтический язык напряжен до косноязычия, красноречив до самоотречения:
Сердце мое в твоих росах, родина.
Ночью в колючих полях,
В кипарисовых ароматах, во влажных кустарниках
Расправляю я спрятанное крыло.
Дороги твои - песчаные колыбели –
Расстилаются синим шелком
Меж ограждениями из мимоз, всегда мне идти по ним,
Словно заколдованной еще неизвестным чудом,
И волнуются прозрачные небеса над темнотой замерзшего моря деревьев.
(Перевод А.Воловика )
Ее стихи - гимн благословенным рукам, способным поднять и дать жизнь святой земле Израиля.
Литературный вечер был очень оживленным. Так, переводы стихотворения «Да славится спичка», сделанные С.Гринбергом и А.Воловиком, вызвали среди гостей вечера настоящую дискуссию, заставив отвлечься от бытового иврита, сопоставляя русские переводы с высоким ивритом стихотворения. Профессор Беэр-Шевского университета Хамуталь Бар-Йосеф, автор книги о Зельде , внесла дополнительные штрихи к поэтическому портрету поэтессы. Ализа Ишай декламировала стихи Зельды и Рахели. Певица Тирца Рои исполнила песни на стихи Леи Гольдберг, Рахель, Ханы Сенеш. Поэт-переводчик Наум Галеркин каждому из присутствующих подарил по миниатюрной книжке с переводом стихотворения Ханы Сенеш «О Бог мой, мой Бог!». Поэт Роман Любарский провел ставшую традиционной для литературных вечеров «Дома поэта» книжную лотерею. Были на вечере и литературные сюрпризы. Так поэт-переводчик Максим Усецкий прочитал на иврите собственный перевод пушкинского шедевра «Пора, мой друг, пора…» И что самое приятное в этом: аудитория сразу узнала в ивритском стихотворении знакомые с детства стихи.
Среди гостей вечера были ивритские поэтессы Шифра Вайншток, Аделина Кляйн, Ализа Ишай, русскоязычные Ирина Дробинина, Лион Шмульский и др.
На протяжении многих лет «Дом поэта» при Иерусалимском общинном доме ( дир. Лариса Яновская) неизменно выполняет свою просветительскую миссию , открывая ценителям художественного слова новые имена или своевременно напоминая о забытых. Здесь приехавший из России ценитель поэтического слова имеет возможность открыть для себя красивый, высокий, классический иврит, восприняв и полюбив его благодаря русским переводам, настраивающим на высоту звучания языка поэтической Торы. И «да славится пламя» - пламя высокой поэзии, ибо «блаженно то пламя», «чья пламенность в сердце вошла».
Доктор филологических наук, поэтесса
Галина Подольская
Давид Фогель в переводах А.Воловика
Сибирцев ветер
Эта песня, грустная песня о Гибертике, как мне кажется должна эмоционально настроить и ввести нас в творчество Давида Фогеля - человека, безусловно незаурядного, одного из самых крупных поэтов в ивритской поэзии 20 столетия и в то же время человека трагической судьбы - трагической от начала и до конца. И я паозволю себе сказать для тех, кто уже взял в руки ту маленькую книжечку ( где написано мною несколько слов о нем), итак Давид Фогель родился в 1891 году в Сатанове в Подолии . Он знал много языков - русский, польский , идиш, немецкий. Онт зал иврит, поскольку учился в ивритской школе. В общем, он много чего знал.ъ, был человеком ужасно замкнутым в себе _ человеком, который нигде не может найти для себя открытой души, поэтому все передживал в себе. Смотрите, как складывался человек : родился уже в позапрошлом столетии ( 1891 год), в начале прошлого века ( 1809 год) Фогель начал свои скитания ( ему было 18 лет, когда он был в Вильне, в Вильнеберге, который теперь называется Львовом, точнее, Львивом. Он был в Вене, И в 1912 году в Вене он впервые сел ыв тюрьму, Почему это произошло? Потому что он был неавстрийским гражданином, а следовательно в начале первой мировой войны его интернировали . Так он просидел два года в тюрьме. А после освобождения начались мучительные поиски работы, когда нередко приходилось заработать просто на хлеб . При жизни Фогель написал много стихов и прозы, но при жизни выпустил маленькую книжечку стихов - « Ле эвер хад мама» - «На пути к молчанию»( 1923 год). Читательская аудитория ее встретила едва ли не безразлично. Два больших поэта и писателя - Бренер и Беркович - отнеслись к ней благожелательно. Однакол пресса просто прошла мимо того, что он делает. В 1922 году поэт приехал в Израэль, где попытался жить литературным трудом. Однако литературные круги, израильский истеблишмент, израильское высшее общество его не приняло. Для Израиля Фогель не был традиционным поэтом, поэтом, который все хорошо и точно рифмует, поет музыкально. В определенном смысле для ивритской литературы Фогель действительно был предтечей модернизма. Он довольно небрежно рифмовал, а порой вообще не рифмовал, поволял себе строить разноритменные строки, он позволял себе делать то, что тогда было непринято. Быть может, именно поэтому его и не приняли здесь. Он так и не смог жить литературным трудом, заработмть, как говорят, даже на кусок хлеба. Так прошел год жизни поэта на земле Палестины. Потом - Германия, Австрия, вновь Германия и вновь Австрия. В 1931 году поэт переезжает во Францию. Самое потрясающее, что во Франции он вновь попадает в тюрьму, потому что вновь начинается Вторая мировая война, и его, как австрийского гражданина, французы сажают в лагерь. Затем пришли немцы, и теперь уже освободили своего гражданина, но , разобравшись, что он не немец, а еврей, в 1944 году его уже как еврея вновь посадили в тюрьму. Далее следы биографии Фогеля совсем теряются. Мы уже не знаем, где и когда и в какой концлагерь он попал, но , увы, попал… Фогель действительно много переезжал, и благодаря этим переездам в разных местах сохранились его работы, которые постепенно собирались, хотя в Израиле имя Фогеля еще долгие годы так ничего и не говорило. И только в 1966 году поэт и ученый Дан Фагис выпустил полное собрание сочинений , точнее стихов, Давида Фогеля. Позже был опубликован и его знаменитый роман о супружестве. И тогда вздуг все в одночасье открыли для себя поэта, прозаика Давида Фогеля. Его стали издавать, он стал известным, знаменитым , даже модным… Хотя, трудно сказать, насколько настоящее это признание, насколько много его читают и знают внелитературных и внехудожественных кругов. Среди стихотворений Фогеля нет таких, которые бы все читали и все сходу узнавали, как скажем теъх же Бялика или Черняховского. Такого нет и тем не мене Фогель - значительная фигура в ивритской литературе.
Я позволю себе пригласить Ализу Ишай, которая прочтет первое стихотворение , по которому , по словам А.Воловика, « в самом звучании иврита этого стиха слышится голос поэта». « Вместе стем, - продолжает А.Воловик, - я пытался и в своем переводе сохранить его поэтическую музыку , не самую простую и не самую привычную для нас»:
Если бы лесом был,
На тропке бы тихо стоял.
Шаги золотистых рассветов несли бы мне тишину и тайну,
А темный шум проходил бы от меня в стороне,
И птицы пели бы мне.
И, может, пришла бы и ты
В тени моей посидеть…
Песня «Молитва» («А Дон Алям»), веселая и грустная.
Распахнуты очи мои, словно два окна на улицу –
И холодно мне и темно.
Смотрят прохожие в недоумении и ничего не видят.
По вечерам я закрываю окна и зажигаю себе свечу,
И в жилище моем начинается пляс.
Природа поэтического слова Фогеля вплотную связана с восприятием всего сущего в природе, венец которой - человек, одухотворенный любовью, физическое совершенство человека.
У Фогеля есть одно очень редкое для поэтической традиции стихотворение, когда мужчина пишет от имени женщины. Итак « Любимому »:
День проидет, и любовь мою в тайне держу.
И глядит в твои грустные голубые глаза любовь моя тихая.
И навстречу легкой ночи моей
Как тоскуют по тебе маленькие, беспомощные груди мои, любимый.
И буду ждать успокоенная вдруг.
И рукой прижму их к сердцу
И прошепчу в ночь: «Люблю его, люблю».
И сожмется в тоске немой по нерожденному лоно мое.
Есть в творчестве Давида Фогеля очень нехарактерное в целом для его поэзии стихотворение рифмованное, конечно не насквозь прорифмованное, но все-таки рифмованное:
Эту девочку я любил. И ныне по ней тоскую.
Любил ее как жену, да в далях дальних брожу я.
Увидеть бы мне ее такую,
Как помню ее - такую,
Что было, что будет зная,
Что очень по ней тоскую.
Помню лицо в слезах, рыданья, разлуку злую,
Поцелуй на моей щеке.
Ну, как же не затоскую.
На ветке один цветок,
Легкий, мягкий, ищу я
Прядь волос твоих на ветру…
Я так по тебе тоскую.
….
Тридцать мет дорога моя бежит и кончится скоро -
Все так и не поумнел.
Я и сейчас тот же юный упрямец:
Бегу по склону горы
И за бороду тащу старую козу -
Все, чем был - глупым мальчишкой,
Мог бы повторить и снова неразумно,
Потому что глупцы мы и дети до скончания времен.
И еще два стихотворения - и со всем в другом настроении _ стихотворения даже трагические, написанные поэтом как предчувствие будущей судьбы:
« Года моей юности» (Орейн вэорайн):
Года моей юности, я вас позабыл совсем,
И тебя в одном из них.
В лужице после дождя босиком станцуй для меня,
А меня уже больше нет.
В юности дальней моей как я спешил к белым дворцам
Старости - огромны они и пусты.
Начало дороги моей вновь не увижу,
Как не увижу и себя той поры.
Издалека движутся дни.
И ты продолжаешь путь откуда-то и куда-то без меня.
Каждое слово в .этом любовно-щемящем поэтическом воспоминании - образ художественно нерасторжимого мира, в котором все нерзрывно связано между собой - связано любовью - любовью к слову, способному воплотить его любовь к женщине как совершенству мироздания.
Еврейская песня «Шабат» ( тоже молитва).- Аксельруд.
И еще более трагическое стихотворение, запечатлевшее отношение Фогеля к войне как оскорблению человечества кровавой бойней. Нервное потрясение поэта от ужаса за происходящее - в «запахе бойни», несущемуся по свету:
Топот армии по всей вселенной.
Все ринулись в бой.
Запах бойни разносится по свету.
А я на мгновенье остался здесь.
Знал я , что и меня не минет,
Ни ребенка, ни женщины,
Что сверено-проверено
От смерти долгой до души -
Мостик короткий в спешке пройти
И к смерти долгой. Бедны мы и нищи.
Но Фйогель не был бы Фогелем, если бы выстраданное годами тюрем и концентрационного лагеря отношение к действительности не вылилось поэтическим потоком, беззащитным и покоряющим лиричностью высказывания и глубоко философской позицией, избранной художником в жизни.
Слепой туман ворвется в мягкий снег
Укроет от глаз моих улицу.
И волны леса скатываются с гор –
И нет у нас тепла.
Даже в своих последних стихах Фогель так и не смог «обмирщиться». Так и не стал фабульнее, не обрел «доступности», продолжая жить интровертно в себе. Быть может, именно личностное качество Фогеля-человека и позволило Фогелю-художнику запечатлеть в своих стихах ранее незнакомую ивритской поэзии европейскую политизацию эпохи. При этом Фогель-поэт уже для себя понял, что в старых поэтических формах невозможно художественно выразить это отношение к действительности. Вот почему старый стих кажется Фогелю чужим , а новый - по-модернистски неясным, но ритмически вмещающим разноголосицу бытия и осколки растворяющегося в нем человека:
Вот и осталось у меня меньше,
Чем ничего :
В ладони супа сварить да позвать бедняка
Вместе поесть, да прикорнуть рядышком с ним на охапке соломы…
Таков Фогель-художник в русских переводах А.Воловика . Сказать больше, чем сказано в этой заметке, оживленной цитируемыми здесь поэтическими текстами, наверное, уже нельзя. Любое отношение читателя к прочитанному субъективно, но всегда истинно по отношению к художнику..
Негаснущая звезда
( Давид Фогель в переводах А.Воловика )
.
Распахнуты очи мои, словно два окна на улицу –
И холодно мне и темно.
Так Давид Фогель, один из значительных представителей ивритской литературы, в присущей ему образно-поэтической манере определил собственное отношение к миру, мысля себя поэтом «распахнутых очей – окон», готовым запечатлеть в стихе каждую толику воспринятого им бытия. Только «холодно и темно» от этой личностной, беззащитной устремленности к всевосприятию мира, а потому
Смотрят прохожие в недоумении и ничего не видят…
Не-спо-соб-ны увидеть! Увы, ситуация весьма тривиальная для гения… Сам Фогель понимал это лучше многих, хотя, как известно, «во многом знании - много печали», как мог бы определить систему нелегких взаимоотношений поэта с миром Экклезиаст!
Творчество Давида Фогеля – одного из крупнейших поэтов в ивритской поэзии 20 столетия , личности незаурядной, человека трагической судьбы - трагической от начала и до конца - современному читателю уже распахнуло свои «очи - окна». И это ощущает каждый, едва взяв в руки сборник стихов Фогеля. Становится очевидно то, что восемь десятков лет назад открылось лишь двум выдающимся современникам – поэту Бренеру и писателю Берковичу.
Итак, Давид Фогель родился в 1891 году в Сатанове в Подолии. Владел несколькими языками - русским, польским, идиш, немецким. Знал и иврит, поскольку учился в ивритской школе. В общем, он много чего знал и мог бы открыться еще при жизни, но был человеком интровертно замкнутым, а потому художественно переживавшим все в себе. Оставленное им литературное наследие весьма значительно, хотя при жизни Фогель выпустил лишь маленькую книжечку стихов, названную едва ли не пророчески - «На пути к молчанию» (1923 год).
И действительно, читательская аудитория встретила сборник безразлично. Пресса просто прошла мимо его существования. В 1922 году поэт приехал в Израэль, где попытался жить литературным трудом, что с точки зрения хлеба насущного оказалось в принципе невозможным. Но, как и в Европе, на земле Эрец-Исраэля литературные круги, палестинский истеблишмент и высшее общество не восприняли творческих новаций поэта. Он казался чужим, а следовательно и неинтересным. Для Израиля того времени Фогель и в правду не был традиционным поэтом: небрежно рифмовал, порой вообще не рифмовал или уж делал это совсем не как другие, был эквиритмичен , нередко немузыкален, а соотношения длины стихов не вписывались даже в систему тонического стихосложения. Иначе говоря, в ивритской литературе Фогель действительно выступил предтечей модернизма. И тем не менее год жизни в Палестине в языковом отношении для Фогеля – поэта оказался определяющим: зная многие языки, он предпочитал писать на иврите.
Жизнь Фогеля сложилась таким образом, что он много переезжал (Па лестина, Германия, Австрия, вновь Германия и вновь Австрия, Франция … ). Возможно, благодаря этим переездам в разных местах сохранились его работы, которые постепенно находились и собирались, скопившись до приличного наследия, способного едва ли не исчерпывающе представить творческую индивидуальность Фогеля. И лишь на земле Израиля того времени имя поэта еще долгие годы ничего и не говорило. Но в 1966 году произошло важное с точки зрения сохранения его творческого наследия событие: поэт и ученый Дан Фагис выпустил полное собрание сочинений, точнее стихов, Давида Фогеля. Позже был опубликован и его знаменитый роман о супружестве. И тогда в Израиле вдруг все в одночасье открыли крупнейшего поэта и прозаика Давида Фогеля. Его стали издавать, Фогель стал известным, знаменитым , даже модным… Сегодня принято считать, что «его время настало». Хотя, трудно сказать, насколько это признание «настоящее», насколько много его читают и знают литературные и внелитературные круги. Во всяком случае его стихи включают в антологии ивритской поэзии, изучают в школах и университетах, хотя и не узнают сходу, как, скажем , Бялика или Черняховского.
Бесспорно, сейчас Фогель - значительная фигура в ивритской литературе. Сама природа его поэтического слова вплотную связана с восприятием всего сущего в природе, венец которой - человек, одухотворенный любовью, делающей его торжественно совершенным в диалоге с благословенной Тевой:
Если бы лесом был,
На тропке бы тихо стоял.
Шаги золотистых рассветов несли бы мне тишину и тайну,
А темный шум проходил бы от меня в стороне,
И птицы пели бы мне.
И, может, пришла бы и ты
В тени моей посидеть…
Есть в творчестве Давида Фогеля очень нехарактерное в целом для его поэзии стихотворение - рифмованное, конечно, не насквозь прорифмованное, но все-таки рифмованное, строфически и эвфонически закругленное, словно «перетекаемое» из одной формы в другую:
Эту девочку я любил. И ныне по ней тоскую.
Любил ее как жену, да в далях дальних брожу я.
Увидеть бы мне ее такую,
Как помню ее - такую,
Что было, что будет зная, что очень по ней тоскую.
Помню лицо в слезах, рыданья, разлуку злую,
Поцелуй на моей щеке. Ну, как же не затоскую?
На ветке один цветок, легкий, мягкий. Ищу я.
Прядь волос твоих на ветру… Я так по тебе тоскую.
Каждое слово в этом любовно-щемящем поэтическом признании – воспоминании - образ художественно нерасторжимого мира, в котором все неразрывно связано между собой - связано любовью - любовью к художественному слову и форме, способным оживить в художественном произведении любовь лирического героя к женщине как совершенству мироздания.
Есть в творчестве Фогеля одно очень редкое для европейской и уж тем более для ивритской поэтической традиции стихотворение, когда мужчина пишет от имени женщины – пишет с ренессансной раскрепощенностью и цельностью:
День проидет, и любовь мою в тайне держу.
И глядит в твои грустные голубые глаза любовь моя тихая.
И навстречу легкой ночи моей
Как тоскуют по тебе маленькие, беспомощные груди мои, любимый.
И буду ждать успокоенная вдруг.
И рукой прижму их к сердцу
И прошепчу в ночь: «Люблю его, люблю».
И сожмется в тоске немой по нерожденному лоно мое.
В творчестве практически каждого крупного поэта, как правило, есть строки, написанные как предчувствие будущей судьбы. Таким стихотворением -предчувствием можно назвать и лирико-драматический монолог «В юности дальней моей»:
В юности дальней моей как я спешил к белым дворцам
Старости - огромны они и пусты.
Начало дороги моей вновь не увижу,
Как не увижу и себя той поры.
Издалека движутся дни.
И… - психологическая цезура Фогеля, стоящая многих художественных образов :
… ты продолжаешь путь откуда-то и куда-то без меня.
Да, она идет без него …, но и он … уже совсем один. Как не случайны эти строки!
Трагические настроения, подстегиваемые реально историческими событиями 20 столетия, наложившими несомненный отпечаток на мировосприятие поэта, начинают прогрессировать в творчестве Фогеля. Таковы его стихотворения о войне, запечатлевшие отношение поэта к войне как о-скорб-ле-ни-ю че-ло-ве-чест-ва кровавой бойней. Модернистским потоком выплескивается пережитое Фогелем нервное потрясение от ужаса за происходящее. Оно в «запахе бойни», несущемуся по свету, где все «сверено-проверено от смерти долгой до души»:
Топот армии по всей вселенной.
Все ринулись в бой.
Запах бойни разносится по свету.
А я на мгновенье остался здесь.
Знал я , что и меня не минет,
Ни ребенка, ни женщины,
Что сверено-проверено
От смерти долгой до души -
Мостик короткий в спешке пройти
И к смерти долгой. Бедны мы и нищи.
Сама судьба словно предназначила Фогеля для страданий, принеся на жертвенник политических перипетий. Родившись в позапрошлом столетии (1891 г.), уже в начале прошлого века (1809 г.) Фогель начал свои скитания-страдания. В 18 лет он был в Вильне, потом - Вильнеберг (Львов), Вена… В городе «короля вальса» , не вальсируя, в 1912 году был впервые посажен в тюрьму…За что, почему? Лишь за то, что оказался не австрийским подданным! Так «Сказки Венского леса» обернулись для поэта двумя годами тюремного заключения. И следовательно в начале Первой мировой войны его интернировали. Потом – мучительные поиски работы, когда нередко не удавалось заработать даже на хлеб. 1931 год, Франция - и вновь тюрьма, теперь уже на родине балета! Как и почему это произошло? Да потому что вновь начилась война, теперь уже Вторая мировая. И словно в отместку, как австрийского подданного, теперь уже французы сажают его в тюрьму. Власть переменилась, потому что пришли немцы и праведно освободили своего ущемленного в правах гражданина. Но судьба-злодейка верна себе до конца: их верноподданный не немец, а еврей! Вот почему в 1944 году Фогеля теперь уже просто за «жидовскую морду» сами освободители помещают в концентрационный лагерь...
Далее следы биографии Фогеля теряются. Теряются следы, но остаются стихи, выболевшие тюрьмами, концентрационным лагерем, вылившиеся ошеломляющим художественным потоком, беззащитным и покоряющим лиричностью высказывания , философской позицией, избранной художником в ристалище абсурда :
Слепой туман ворвется в мягкий снег,
Укроет от глаз моих улицу.
И волны леса скатываются с гор –
И нет у нас тепла.
Вот и осталось у меня меньше, чем ничего:
В ладони супа сварить да позвать бедняка.
Вместе поесть, да прикорнуть рядышком с ним на охапке соломы…
Модернистский экспрессионизм эпохи обусловил особый тип мышления Фогеля - художника. Даже в своих последних стихах поэт так и не смог «обмирщиться»: не стал фабульнее, не обрел «доступности», продолжая жить интровертно в себе. Быть может, именно это личностное качество Фогеля -человека и позволило Фогелю – художнику запечатлеть в своих стихах ранее незнакомую ивритской поэзии европейскую политизацию эпохи. При этом Фогель-поэт уже для себя понял, что в старых поэтических формах невозможно художественно выразить это отношение к действительности. Наверное именно поэтому старый стих кажется Фогелю чужим, а новый - по-модернистски неясным, но ритмически вмещающим разноголосицу бытия и осколки растворившегося в нем человека:
Тридцать лет дорога моя бежит и кончится скоро -
Все так и не поумнел.
Я и сейчас тот же юный упрямец:
Бегу по склону горы и за бороду тащу старую козу -
Все, чем был - глупым мальчишкой,
Мог бы повторить и снова неразумно,
Потому что глупцы мы и дети до скончания времен.
Таков Фогель - художник в русских переводах А.Воловика, представившего свои переводы в «Доме поэта» при Общинном доме. Сказать больше, чем уже сказано в этой заметке, оживленной цитируемыми здесь виртуозными переводами В.Воловика, стремившегося «в своих переводах сохранить поэтическую музыку оригинала, не самую простую и не самую привычную для нас, принципиально выделяющую стихи Фогеля среди ивритских поэтов» (А.Воловик). Любое отношение читателя к прочитанному субъективно, но всегда истинно по отношению к художнику.
Стихотворение, открывающее эту публикацию, заканчивается следующими стихами:
По вечерам я закрываю окна и зажигаю себе свечу,
И в жилище моем начинается пляс.
Он ставил себе свечу каждый вечер, не только в шабат. Она светила, сгорая от собственного пламени. И вдруг однажды этот свет стал негаснущей звездою…
Доктор филологических наук
Галина Подольская.