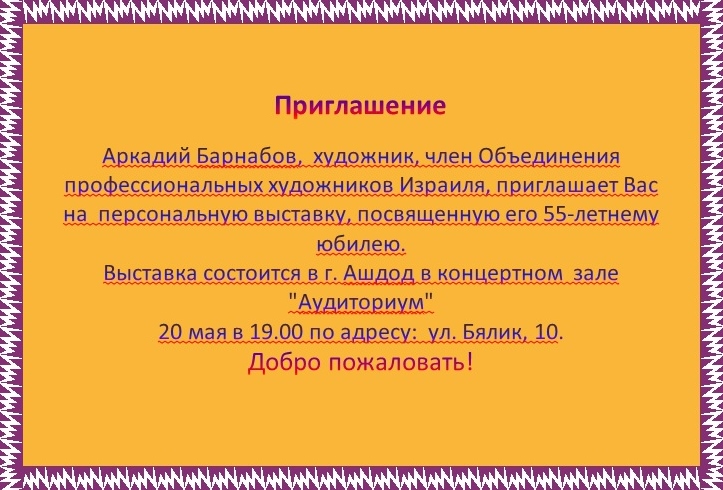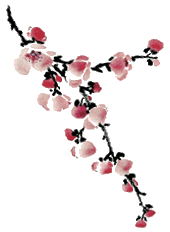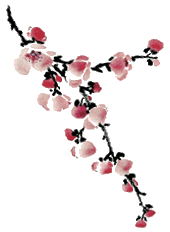 Albion@World, #3 (20), сентябрь 2009, стр. 8.
http://files.mail.ru/X2PXWK
/>
Веточка Мэн Кэ
Галина Подольская
Должно надеяться на все, ибо нет ничего
безнадежного.
Линь, поэт, философ, 8 век до н.э.
Света угасала, стала хрупкой, как тростник, изображенный тонкой кисточкой на рисовой бумаге. Лекарства, которые она принимала, еще помогали, но окружающий мир уже приобрел болезненный отблеск китайского шелка, в льющихся складках которого реальность уплывала из-под ног. Возраст бальзаковской женщины не приносил уверенности в себе. Фатальная неопределенность и неустроенность в новой жизни пересекли рубеж хронической усталости, безжалостно расшатывая нервную систему, истончившуюся до стершихся волосков той самой кисточки, которой рисуют на рисовой бумаге. Хорошо, что хоть зацепилась посыльной в какой-то организации, и разносила письма в иерусалимские общественные учреждения. Но затаившаяся неудовлетворенность этим своим тусклым, законопослушным бытием разъедала, как ржа.
Однажды нехитрая столичная география в конец запутала Свету. Ну, никак не находилась улица, названная в честь прекрасной принцессы Шлом Цион. Силы были уже на пределе, как вдруг Света почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Инстинктивно обернулась. И едва не столкнулась с каким-то мужчиной. Среднего роста, лет пятидесяти, седоволосый, с ясным лицом, он смотрел на нее глазами – черносливами.
- Вам нужна помощь? – обратился незнакомец к Свете на хорошем русском, - я врач.
- Да-да, – радостно откликнулась Света. – Мне как раз нужна помощь, правда, немного другого рода. Понимаете, я никак не могу найти одну улицу.
Она неловко взяла конверт, чтобы в очередной раз прочитать адрес…
- Так это же рядом. И я как раз иду в том направлении, – любезно ответил незнакомец. – Пожалуйста, не волнуйтесь. Вот дойдем, вон до той развилки, - он жестом указал на видневшуюся маленькую клумбу с мандариновым деревом в сердцевине, - там и есть Шлом Цион а-Малха. Так что не унывайте, не все так безнадежно.
У Светы камень упал с сердца. Видно и впрямь она чересчур переволновалась, хотя теперь даже как-то успокоилась. Между тем незнакомец был явно настроен продолжить начавшуюся беседу. С интонацией потомственного интеллигента он спросил:
- И откуда Вы, стало быть, родом?
Ни разу за время репатриации Света не слышала, чтобы в Израиле кто-либо таким образом начинал разговор. Обучение ивриту брутально отучает русских мыслить по-русски, а потому, не сказав ни здравствуй, ни прощай, не поинтересовавшись даже твоим именем, первым делом все спешат разузнать: «Как твои дела?» А потом начинается ни к чему не обязывающая болтовня, в конце которой, как правило, заявляют, что, мы уже на «ты», то «ты» и обязан что-то купить, вступить в какую-нибудь организацию, ознакомиться с каким-нибудь флайерами у того, кто неожиданно вломился в твою жизнь с вопросом «как твои дела». А «женские дела» - расслабиться и баста.
- Здесь не надо знать ни рода, ни племени, - философски ответила Света.
- И все-таки…
- С Амура, - машинально ответила Света из благодарности, что ей уже не нужно ничего искать, и ее просто приведут к неизвестной ей улице по имени исторически известной принцессы.
- Неужели из Китая? – пошутил незнакомец, желая все-таки оживить вяло текущий разговор. Но Света, находившаяся не то, что бы не в настроении, а
в состоянии, когда шуток вообще не понимают, очень серьезно ответила:
- Нет. Не из Китая. Амур – это и Россия тоже. Амур разделяет две страны. По одну сторону – Россия, – по другую – Китай. Мы друзья и враги одновременно. Мы все знаем о них, а они – о нас. А река – у тех и у других одна. Переплыви – и ты в другом мире, где можешь погибнуть или выжить, но он совершенно другой, - она почти взглянула на незнакомца и вновь столкнулась с глазами-черносливами.
- А здесь не другой мир? – улыбнулся мужчина и, участливо придержав Свету у светофора, добавил. – Ну, разве что не за Амуром! Зато весна-то какая, вот-вот и все зацветет. Ну, и чем это дерево хуже китайского? Разве его ветки не те же иероглифы? Разве они не сокровища образцовой каллиграфии? Тушь, тушница и кисти – только самой природы.
Он остановился на развилке у мандаринового дерева, смутно напоминавшего китайскую миниатюру, и говорил, словно убаюкивая, - красиво, размеренно, успокаивающе. Было в его речи нечто от кошачьего мяуканья, китайской музыки и премудростей древней книги «Мэн-цзы». Света с трудом улавливала смысл того, о чем он говорил, но в гармоничном журчании его речи она ощущала почти забытый душевный покой. Когда же улица, названная в честь прекрасной принцессы Сиона была найдена, незнакомец сказал:
- В мире нет ничего безнадежного! Не унывать! Это – предписание доктора!
- Доктора? – Света как-то странно взглянула на него и, вновь столкнувшись с глазами-черносливами, вдруг вспомнила, что…
Когда она была еще девочкой, то там, на Амуре, в каждом новогоднем подарке всегда был «Чернослив в шоколаде» Московской фабрики «Кремлина», как было написано на фантике. Громадный, по ее тогдашним понятиям, чернослив был покрыт шоколадной глазурью, а внутри помещался цельный миндаль, похожий на удлиненное сердечко с заостренным кончиком. Состав подарка ежегодно менялся, но «Чернослив в шоколаде» оставался и по-прежнему был самым лакомым, словно в этом черносливе была заключена повторяемость детского чуда, которое ожидаешь, и которое непременно свершается, но при этом не перестает оставаться чудом. Так повторялось всегда из года в год, пока она не выросла из новогодних подарков…
Уловив ее замешательство, незнакомец добавил:
- Ну, конечно же, доктор, а еще Мэн Кэ, коль мы оба с Амура.
- Мэн Кэ?! – засияла Света. - В институте я писала реферат о последователях Конфуция! Правда, здесь идея «человеколюбивого правления», по-моему, с треском провалилась и конфуцианство совсем не в почете.
- А мне кажется, у нас с Вами, как представителей законопослушного народа, в отличие от благородных мужей-правителей с их «заботой» о всех и вся, есть шанс поменяться с ними местами, правда, в Поднебесной.
Света раскраснелась и даже улыбнулась:
- Надо же, Мэн Кэ? Узнаю свой реферат!
- Вот и хорошо. Значит, будем относиться к жизни, как странствующие китайские философы, - и на прощанье повторил, - В мире нет ничего безнадежного. Не унывать! Предписание доктора.
Возвращаясь, Света взглянула на мандариновое дерево, но вздрогнула… Потому что несколько дней назад она была именно здесь. И искомый адрес был снова здесь, хотя она не могла отыскать снова это же самое место. Но тогда она была без Мэн Кэ и думала совсем о другом…
Один китайский художник по имени Вань Фу нарисовал портрет жены своего ученика Линь. Немыслимая красавица стояла у благоухающего цветущего дерева. И Линь так полюбил нарисованный его учителем идеальный портрет, что позабыл о своей прекрасной, но земной жене. И тогда жизнь для красавицы-китаянки утратила смысл. Однажды утром жену Линя нашли в петле на ветви того самого благоухающего цветущего дерева, ставшего фоном для злополучной картины. Концы шелкового шарфа, стянувшего нежную шею молодой женщины, слились с волосами, развевавшимися по ветру.
Совсем недавно Света вспоминала эту полуисторию-полулегенду из своего реферата, и ей хотелось быть на месте прекрасной китаянки, – только в петле на еще нерасцветшей ветви мандаринового дерева на развилке улиц Яффо и Шлом Цион а-Малха. После репатриации Света жила, как за Амуром, где никогда не была. Но ей важно было быть там, где не жила. Она наловчилась есть палочками, и обожала китайское искусство на шелковых свитках и рисовой бумаге. Запечатленный тонкой кисточкой акварельный мир был прозрачен, как крылья пучеглазой стрекозы, и призрачен – если речь шла о смерти…
Через пару дней Света опять встретила незнакомца на том же месте, на улице Яффо. И опять он помог ей найти нужный адрес. И опять как-то очень особенно призывал вырваться из тисков депрессии. А потом обратил ее внимание на мандариновое дерево, где уже начали распускаться первые цветы… И вдруг спросил:
- Неужели и на Амуре, можно было увидеть такую красоту?
- На Амуре – не помню, а вот на китайских миниатюрах…
- Да нет уже того шелкового Китая. Хотите, зайдем в китайский магазин посмотреть на ширпотреб, который они нам теперь поставляют? Не ожидая ответа, он подошел к мандариновому дереву:
- Если полиция сейчас меня оштрафует, Вам придется подтвердить, что я защищал честь Израиля. Отстаивал его природную красоту, чтобы одна симпатичная женщина, которую Господь сподобил жить в Иерусалиме, не тосковала больше о китайском карточном домике! Чтобы на благодатной земле Израиля она чувствовала себя счастливой и здоровой.
- Вот уж во истину речь истинного Мэн Кэ! – рассмеялась Света. А «бродячий конфуцианец» сорвал маленькую веточку с первыми редкими цветами мандаринового дерева и протянул Свете. Она поднесла ее к носу. Вдохнула аромат. И улыбка проснувшейся принцессы осветила ее лицо.
Так они встречались еще несколько раз. Света явно нравилась незнакомцу, ставшему ближе многих знакомых. У него было одно невероятное достоинство, которое Света, нервная и не желавшая флиртовать, особенно ценила: он никогда не отягощал собственными проблемами, словно их вовсе не существовало, порождая в ней ощущение внутреннего равновесия. Так легко и спокойно ей было с этим ниоткуда взявшимся Мэн Кэ. Однажды Света даже подумала: «Есть же такие счастливые женщины, у которых мужья – врачи. Как легко, если рядом с тобою врач…» И вдруг словно почувствовала запах цветов мандариновой веточки…
Однако болезнь Светы не отступала. Ее обострение спровоцировала обстановка в семье, ссоры с мужем, который, не понимал, что психика его жены надорвана. И тут наступил кризис: находясь в диком возбуждении, она обварила его кипятком. С криком он отшвырнул ее к стене, как взбесившуюся собаку, и стал срывать свитер, с кусками прилипшей к нему кожи…
Она очнулась в психиатрическом стационаре, не помня о том, что совершила. Память вычеркнула целые куски из ее жизни. Веточка с цветами мандаринового дерева, стоявшая в стакане на прикроватной тумбочке ни о чем не напоминала. Никто из родственников Свету не навещал. Обваренный муж лечился. Сын находился в Америке. О семейной драме ему не сообщили.
Но однажды она увидела, что кто-то положил на ее тумбочку китайские палочки для еды в изящном чехольчике из рисовой бумаги. В его левом верхнем углу на фоне цветущего дерева были выведены иероглифы, а ближе к центру – красавица китаянка в розовом кимоно.
Кто-то вновь поставил мандариновую веточку. Правда веточка постояла-постояла в воде и завяла. И тогда несвежую веточку кто-то выбросил и поставил другую. Но эта другая тоже быстро завяла. И этот кто-то поставил новую веточку - с бутонами. Бутоны набухали и округлялись, и уже совсем скоро распустились. Больничная палата наполнилась нежным, сладковатым ароматом цветов мандаринового дерева, который расползался повсюду и, проникая в открывшиеся этому аромату поры всего ее существа, становился ощущением себя. Света дышала ровно и свободно. Ее тело, словно летело в невесомость, словно пучеглазая стрекоза «отлаживала» свои прозрачные крылышки, чтобы, наконец, отряхнуть мрак ночи.
А аромат все разливался и разливался. И вдруг остановился на какой-то будоражащей обоняние приятной ноте – легкий, щекочущий, драгоценно невозмутимый. Он был подобен нектару «цветка цветов» из какого-то далекого ритуала, призванного пробудить ее воспоминания, заставить ее бороться за себя прежнюю – светлую и радостную, свежую и здоровую.
А потом, словно приподнявшись на цыпочках, этот аромат повысился еще на полутон. И к свежести цветка добавилась пряность уверенности. В ощущении робкой уверенности – удовлетворенность. В просыпающейся удовлетворенности – способность к противостоянию. В умении угловато противостоять – забытое ощущение себя женщиной. Потом – вообще неизвестно что. Но это неизвестно взбиралось по хроматизмам вверх, напомнив о чем-то совсем женском, тонком, беззащитном, нежном.
А потом аромат то ли завис, то ли провалился, как на промокашке, и уже не распространялся. Но через какое-то мгновение вновь возник - хрупкостью тростника, изображенного тонкой кисточкой на рисовой бумаге.
А потом опять странное ощущение, будто цветы на мандариновой ветви еще цветут, но кто-то уже чистит мандарин. И этот новый ворвавшийся аромат как непостижимо постижимое совершенство. И она один на один с этим оглушительным совершенством, с которым ей не хочется расставаться…
И еще какой-то доктор все время приходил. Света всегда знала это наверняка. Она чувствовала, что он здесь, даже если спала – по звуку шагов и какому-то особому, выделявшему его из всех врачей шуршанию одежды. Другие врачи все время о чем-то расспрашивали. А этот всегда был один и никогда ничего не записывал, но...
На ее тумбочке появилась новая веточка. И так повторялось снова и снова. Казалось, что мандариновое дерево не перестает в Израиле цвести. И вдруг Света вспомнила, кто он этот непохожий на других доктор с глазами-черносливами. Это был Мэн Кэ, как она его про себя называла, - тот самый доктор, как китайский философ из ее студенческого реферата. Он призывал ее не унывать и не сдаваться. Света была растрогана. Она не знала даже его настоящего имени, но всегда помнила о сорванной им в тот день веточке. Но дело даже не в этом. После Мэн Кэ она вспомнила все и пришла в ужас, что все случившееся было с ней.
Считалось, что состояние пациентки улучшилось. И оно, действительно, улучшилось в том смысле, что теперь она все вспомнила. Но теперь в ней поселился панический страх. Света, как женщина, тосковала по дому, даже скучала по мужу, но панически боялась встречи, осознавая безмерность своей вины перед ним. Она собралась посоветоваться с Мэн Кэ, но тот словно сквозь землю провалился.
Зато веточка цвела, не увядая.
Близился день выписки. Света взяла в руки китайские палочки. Потом села на кровать, свесив, как ребенок, не достающие до пола ноги, и, держа палочки в правой руке, начала что-то отстукивать по костяшкам левой, что сложилось в ритмические очертания мотива «Маленькой елочке холодно зимой». Свешенные ноги включились в этот ритм. Но голова не слушалась. На обед Света не пошла, сославшись на пропавший аппетит. Ей хотелось побыть в помещении одной.
И, когда ее взор вернулся к веточке, та словно очнулась и вновь начала источать остатки последнего аромата, потому что ее цветы в этом немыслимом усилии почти скукожились и пожухли.
Света почувствовала, что успокаивается. Она подтянула ноги на кровать. А потом растянулась во весь рост. Прикрыла глаза и задремала.
Ей снилось, что она, как в детстве, разворачивает фантик «Чернослива в шоколаде», чтобы полакомиться конфетой. Но конфета упала на пол, и шоколадная глазурь раскололась. Света огляделась по сторонам, чтобы никто не видел, как она поднимает конфету с пола, как аккуратно собирает отколотые кусочки глазури в фольгу на еще не разглаженный фантик, настырно ожидающий потери. Потрескавшаяся глазурь легко очищалась. «Голый» чернослив без шоколадного мундира был по-прежнему большой, но сморщенный и грустный, хотя миндальное сердце также стучало внутри.
А потом, откуда ни возьмись вдруг появился китайский художник Вань Фу, тот самый, который нарисовал портрет жены своего ученика. Он подошел к мандариновому дереву и высвободил нежную шею красавицы-китаянки из петли шелкового шарфа. А еще осторожно начал выпутывать ее волосы, сросшиеся с ветвями нарисованного дерева. И китаянка ожила – ожила прямо в той маленькой клумбочке на развилке улиц Яффо и Шлом Цион а-Малха. И ее ожившие волосы стали развеваться с шелковым шарфом на ветру, словно в клипе с рекламой шампуня.
А потом появился Мэн Кэ, но не тот, что из времен Конфуция или ее реферата, а тот, о котором она думала с затухающим ароматом мандариновой веточки:
- В мире нет ничего безнадежного! Не унывать! Это – предписание доктора!
А потом она словно почувствовала шуршание его халата. Резко открыла глаза. Но рядом никого не было. Она взглянула на прикроватную тумбочку.
Веточка, выдыхаясь из последних сил, еще жила.
Вернулась соседка по палате с мандаринами в руках:
- Вот взяла тебе мандаринов. А то, что ж, совсем без обеда-то.
- Спасибо. Положи, пожалуйста, на тумбочку, - вежливо, но без особого энтузиазма отозвалась Света.
Неуклюжая, расплывшаяся бухарка задела рукавом стоявший на тумбочке пластиковый стакан. Стакан дрогнул. Веточка упала. Вода растеклась по тумбочке.
Увядающие мандариновые цветы упали в образовавшуюся на столешнице лужу и теперь униженно мокли.
- Вай-вай! – всплеснула руками толстуха. – Не волнуйся, лежи, я все уберу сама, - и закрыла Светину кровать выдвижной занавеской. Потом пошла за салфетками, чтобы вытереть воду. Еще с чем-то возилась и копошилась. Наконец, вроде бы все сделала, надела наушники и легла слушать какую-то бухарскую музыку в израильской обработке.
Когда Света встала. Она увидела, что ее тумбочка идеально вытерта. В пластиковой тарелке красуются четыре крупных мандарина. По-видимому, добродушная бухарка добавила и два своих… Все сияло, как в нетворческом натюрморте, когда все, что может разлиться или уже не имеет товарного вида, исключено из композиции.
- Хорошо еще, что палочки у меня под подушкой, - подумала Света.
Утром следующего дня ей сообщили, что муж с выпиской уже ожидает в приемной, новая волна смятения охватила ее.
Толстуха-соседка сидела на своей кровати напротив и, поджав под себя ноги, грызла миндаль. Трудно понять, как при ее весе она вообще устроилась в такой позе, но ей было комфортно.
Света поднялась. Медленно надела плащовку. Потом, словно вспохватившись, что забыла что-то главное, сунула руку под подушку и, нащупав знакомый чехольчик, положила палочки в накладной карман куртки. Опять присела на кровать. Опустила голову. Сосредоточилась. Просунула руку. Крепко сжала в кулаке китайские палочки и на какое-то время обрела внутреннюю опору. Но, когда вошла врач, Света неожиданно даже не заплакала, а заскулила, как щенок.
- Ну, что вы, что вы, все хорошо, успокойтесь, - сказала врач, и, взяв ее за руку, добавила, - я долго беседовала с вашим мужем, еще с ним говорил психолог. Ваш муж много пережил. Но главное, он понимает, что это был аффект, проявление запущенной болезни, о серьезности которой он просто не подозревал. Ваше лечение будет продолжаться в дневном стационаре, а потом в поликлинике. Здоровье к вам, безусловно, вернется, что поможет наладить взаимопонимание в семье. Успокойтесь и постарайтесь контролировать себя. Муж вас ждет.
Тем временем толстуха-соседка несуетливо спустила поджатые под себя ноги, которые словно сами собой пробрались в тапочки, и, словно выкатившись из кровати, подошла к Свете:
- Крепись, подруга, на вот тебе на дорожку, - и отсыпала ей в карман миндаля. Света вышла. Муж ожидал ее в вестибюле у лифта с букетом каких-то искусственно выращенных цветов, которыми был переполнен магазин-каньон перед стационаром. Он нелепо сунул их ей, как вязанку, чуть ли не под мышку. И все равно…
Их встреча была такой, словно они шли навстречу друг другу с разных берегов Амура…Но они приближались…
- Готова? – сухо спросил муж. – Ну, поехали, с Богом.
- Прости меня, – виновато сказала Света.
- Закрыли тему. Все здоровы. Значит, все в порядке. Значит, – домой.
- Конечно, - тихо ответила Света, продолжая искать кого-то глазами, крепко сжав в кулаке лежавшие в кармане китайские палочки. Ей так хотелось поблагодарить одного доктора, который почему-то так и не появился в свите уважаемых врачей, несущих свои знания, как знамя Спасения. Она не знала, где его найти. А объяснить кому-либо в психиатрическом стационаре, что она разыскивает Мэн Кэ, все равно, что спросить о Юлии Цезаре. И вдруг у выхода из главного корпуса она неожиданно натолкнулась на человека, вытиравшего в коридоре полы. Тот поднял голову.
- Доктор?.. – словно пораженная молнией, недоуменно проговорила Света.
Мужчина взглянул на нее. И глаза – черносливы словно поблекли, как сморщенные сухофрукты, оставшиеся без шоколадно-глазурного мундира. Он молча повернулся и, почему-то ничего не ответив, быстро ушел.
- Сколько таких вот из нашей России-матушки драят здесь полы… – с грустью сказал муж Светы. – Пока ждал тебя, о жизни с ним говорили. Ты знаешь, он тоже с Амура. Психотерапевтом там был, а здесь медицинский экзамен никак не сдаст. Жаль, человек уже немолодой…
С тех пор Света почему-то никогда не встречала своего Мэн Кэ, хотя по-прежнему начинала день с улицы Яффо. По-прежнему разносила письма в различные учреждения. По-прежнему проходила мимо мандаринового дерева, плоды которого однажды заалели. Кажется, ни на одной из китайских миниатюр она не видела такого яркого цвета жизни: «Не унывать! В мире нет ничего безнадежного! Ничего-ничего! Ничего-ничего! И не унывать!» Она вспомнила своего удивительного, как странствующий Мэн Кэ, доктора с глазами-черносливами, опустила в карман руку, чтобы по выработавшейся привычке сжать в кулаке китайские палочки. Их не было, как исчезли. И вдруг она укололась обо что-то пальцем. Это было завалявшееся миндальное ядрышко, как удлиненное с острым кончиком сердце.
|