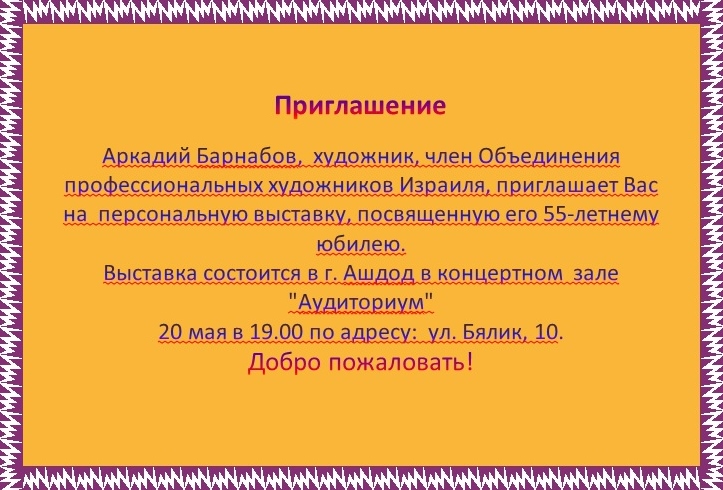Звукопись мироощущения или «фантазии бессонные». Дж. Китс. "Ода соловью".
Г. Подольский
Оригинал и перевод «Оды соловью» Е. Витковского здесь :
http://www.wikilivres.info/w/index.php/%d0%9e%d0%b4%d0%b0_%d0%a1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8e_(%d0%9a%d0%b8%d1%82%d1%81/%d0%92%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9)
Г. Оболдуев - здесь:
http://www.vekperevoda.com/1887/obolduev.htm
Проблема взаимосвязи эмоциональности и особенностей восприятия окружающего мира поэтами, писателями, музыкантами, художниками с создаваемыми ими произведениями всегда интересовала ученых разных научных дисциплин. Известно множество работ этого направления, посвященных творчеству Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Цветаевой, В. Маяковского, С. Есенина, В. Хлебникова и многих других, в том числе и зарубежных авторов. Несомненно, что талант творца неразрывно связан с его мироощущением, мировосприятием и миропониманием, которое может существенно отличаться от условно принятых «вариантов нормы». Чем значительней талант, тем более многогранным и необычны эти способности. Сами понятия «гений» и «психика» хоть и находятся в разных проекциях, но неизменно связаны между собой и постоянно взаимодействуют. К сожалению, далеко не многие ученые филологического направления признают важность этого взаимодействия при исследовании творчества любимого ими автора. Пожалуй, наиболее любознательными аналитиками зачастую становятся сами писатели, дающие в своих литературных произведениях разной степени глубины психологическую (а нередко и патопсихологическую) оценку (порой глубоко завуалированную) творчества своих коллег по перу. Например, во всемирно известном романе Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна», где главным действующим лицом является врач – психиатр, автор совсем не случайно вывел в название и взял эпиграфом бессмертные строки из Дж. Китса: «И я уже с тобой. Как ночь нежна!» (Дж. Китс. «Ода соловью»).
Жизненная и творческая судьба Джона Китса, английского поэта – романтика, современника А.С.Пушкина, представляется для любящего литературу российского читателя довольно типичной: яркое проявление поэтического дарования, творческая плодовитость в сочетании с пренебрежением сильных мира сего соотечественников к произведениям поэта, безвременная смерть, затем бессмертие на Родине и далеко за ее пределами. «Англия без Китса немыслима – как Голландия без полей цветущих тюльпанов, как Испания без ритмов гитары – фламенко», - пишет в предисловии к изданию Д. Китса (1998) известный переводчик и поэт Е. Витковский.
В отличие от безвременно ушедших русских гениев ХIХ века А.С. пушкина, М.Ю. Лермонтова, у которых творческий период более или менее сравним со сроком их жизни, Китсу было отмеряно Богом прожить лишь 26 лет, из которых всего 5 были отданы поэтическому труду. Получив медицинское образование, Китс не воспользовался правом заниматься медициной, так как он, по собственному рассказу, во время операции поймал себя на посторонних мыслях, «более близких к стихотворчеству, чем к хирургии». Уже в период раннего творчества поэзия Китса отличалась необычайной образностью. Сам он писал: «Стоит мне остаться наедине с собой, как точас возникают образы эпического размаха».
Его убила причина, еще более распространенная для того времени, чем пуля дуэлянта: скоротечная чахотка, «задувавшая» в то время немало «светильников разума» по всему миру. Джон Китс с профессиональным пониманием созерцал свое быстрое угасание, но самым удивительным оказывается то, что чем слабее становилось его здоровье, тем сильнее разгорался поэтический дар. Как «лихорадочный румянец» на лице туберкулезника, прогрессировало творчество молодого поэта, он торопился жить, писал все более ярко и сочно о природе, о человеческих чувствах, о красоте жизни и смерти. Стихи его не содержали глубоких философских сентенций, но мир гения – уже философия: лишь ему присущая звукопись мироощущений в их сочетании с удивительной способностью к воплощению собственным художественным языком. И это, несомненно, одна из основных причин столь высокого пьедестала, сооруженного Китсу сдержанными соотечественниками с «туманного Альбиона».
Россия никогда не была обделена поэтическими гениями, способными не менее образно донести свои чувства до читателя, при этом родным, русским, понятным всем россиянам языком. Китс же, несмотря на всю его привлекательность для интеллигенции, считался и считается в переводческом мире поэтом труднопереводимым, что, наряду с другими причинами, повлекло его малую известность в нашей стране. Сейчас этот пробел восполняется переводчиками, издателями, исследователями творчества поэта и, как впрочем не вполне оптимистически замечал в свое время Е. Витковский: «Может быть, Россия отметит достойным образом хотя бы трехсотлетие Китса? Дай Бог…».
Однако, целью данной статьи является не столько популяризация творчества Китса в России (хотя и это тоже), сколько попытка на примере его творчества приподнять некую загадочную завесу, скрывающую за тайнами малознакомого нам поэтического слова английского романтика «звукопись» его мироощущений, его особую способность к синестетическому и эйдетическому восприятию окружающего мира, необычайное сочетание тяжелого эмоционального состояния в период болезни с возвышенным, культовым отношением к поэзии и красоте: «В прекрасном правда – в правде – красота» («Ода греческой вазе»).
Кое-кто из строгих критиков может обвинить автора данной статьи в слишком вольном подходе к трактовке творчества Китса, особенно в части визуализации его поэтических представлений и причислению их к тем или иным феноменам восприятия. Однако творчество поэта в этом смысле является столь ярким, что подобные предположения просто напрашиваются. Некоторым образом объективность суждений автора статьи затрудняется и тем, что анализу подвергается не сам текст оригинала. А его переводы. Что накладывает на анализируемое произведение неизгладимый отпечаток личности, эмоциональности и мировосприятия переводчика. Если знающий «в совершенстве» английский читатель может оценить оценить «из первых уст» не только всю поэтическую гениальность Китса, но и глубину его переживаний, то нам остается или в совершенстве изучить язык поэта, или надеяться на талант переводчика и его человеческий резонанс с создателем произведения.
Хотя известный московский интерпретатор английского романтика В.В.Рогов и писал, что «творчество Китса всегда является выражением душевного здоровья», нелишне напомнить, что период литературного расцвета поэта совпал с бременем тяжкой прогрессирующей болезни, протекавшей скоротечно и не оставлявшей надежд на будущее. Заболевание поэта явно прослеживается в его творчестве, причем не только в появлении психогенно обусловленного депрессивного звучания (стоит всего лишь взглянуть на название ряда стихов – «Оа смерти», «Меня страшат мои же злые думы», «Ода меланхолии» и т.п.), но и в лихорадочно ярком ощущении окружающего мира, усилении акцентов на светозвуковых, обонятельных, осязательных эффектах его восприятия, доходящих до явления эйдетизма, а возможно и самовнушенных внутренних «видений» фантастического содержания. В одном из своих писем, относящихся к периоду наибольшего взлета его дарования, поэт пишет: «Даже прекраснейшие стихи не всегда манят меня к себе – я страшусь лихорадки, в которую они меня ввергают. Я не хочу творить лихорадочно». В стихотворении «Послание Джону Гамильтону Рейнольдсу» автор, как бы жалуясь, говорит:
Виденья, наплывая друг на друга,
Ко мне явились с севера и юга…
Затем:
Прочь худые мысли!
Проклятие! Как с ними распроститься?
Прочтение стихов Китса позволяет прийти к мысли, что все его творчество – суть противопоставление жизни и смерти, внутренняя борьбы между «тьмой», олицетворяющей болезнь («Тьма, тьма кругом/ И бесконечна мука»/. «Мой дух, ты слаб/ Занесена как плеть, неотвратимость смерти над тобою»), и поэзией, символизирующей в понимании поэта красоту, бессмертие («Поэзия земли не знает смерти»). Это убеждение становится тем более явственным, что во многих стихотворениях ясно прослеживаются симптомы нарушения сна – бессонница. Появление ночных страхов и колебаний настроения («Встающий день дохнул и свеж и бодр, и весь мой страх, и мрачность – все прошло»). Сочетание выраженного депрессивного фона, сопутствующего тяжело протекающей инфекции, возникающих, возможно, на фоне лихорадки эйфорических состояний, а также обостренное синестетическое восприятие окружающего в эти периоды сплавляются у Китса в некий «магический кристалл», обуславливающий особую яркость, четкость, визуализацию образов, воплощением которых оказывается поэтическое слово.
Все вышесказанное можно проиллюстрировать разбором одного из лучших произведений Китса – «Ода соловью».
«От боли сердце замереть готово,
И разум – на пороге забытья,
Как будто пью настой болиголова,
Как будто в Лету погружаюсь я…»
(пер. Е. Витковского)
«Синестезиалгическим» можно назвать уже начало «Оды», когда поэт, слушая соловьиную трель, испытывает при этом почти физическую боль в сердце, но боль сладкую, как «глоток вина», «где сладость южных стран сохранена». Автор практически преобразует реальные слуховые ощущения в болевые, зрительные и слуховые представления («кубок чистой Иппокрены, искрящийся, наполненный до края»). Китс, противопоставляя свои жизненные, в том числе и личные горести, («Не знать о … мире, где волненье, лихорадка») предпочел бы «испить» («искрящийся, наполненный до края» кубок) и «…уйти, от счастья замирая, туда….где тишь и темнота»). Осознание внутренней безысходности в сочетании с восприятием соловьиной трели вызывает у поэта грустные, ассоциативные ощущения, приводящие к довольно типичным для него мыслям о смерти.
Но автор как бы спохватывается, осознает всю их чуждость «земному разуму», красоте соловьиной песни. Он восклицает:
Но прочь! Меня умчали в товй приют
Не леопарды вакховой квадриги, -
Меня крыла поэзии несут,
Сорвав земного разума вериги.
В реальность происходящего Китс возвращается опять-таки с помощью физических (осязательных, цветовых, эмоциональных), но уже приятных ощущений: «Кругом царит прохлада, луна торжественно взирает с трона в сопровожденьи свиты звездных фей», «Лишь ветерок, чуть вея с небосклона, доносит отсветы во мрак ветвей». Жизнь вокруг поэта чувственна, визуализированна («…внятны все живые ароматы»), «ночь нежна», шиповник, как и сам поэт, уже «полон сладких грез». Грезоподобные видения с античными образами («легкокрылая Дриада», «леопарды вакховой квадриги») вполне могут быть расценены и как нечто большее, чем эйдетические способности Китса. Но, проникаясь господствующей красотой, поэт вновь вынужден обратиться к своим грустным эмоциям, мыслям о смерти («Я в Смерть бывал мучительно влюблен», «И мне пора с земли уйти покорно»), ощущая при этом трель соловья как «реквием высокий» по уходящему из жизни поэту. Заходя все дальше и дальше в своих депрессивных, доходящих до тихой прострации переживаниях, Китс с безысходным ужасом констатирует:
Ты будешь петь, а я под слоем дерна
Внимать уже не буду ничему.
Точка в конце предложения, на наш взгляд, символизирует у поэта приговор себе, в то время как восклицательный знак в данном контексте выразил бы протест. Но Китс поставил точку, словно подчеркнув неизбежный итог.
И вдруг – новый поворот. Его чувства, прежде всего слух, вновь возвращаются к пенью соловья, и автор спохватывается (в оригинале это звучит как «Thou wast not born for death? Immortal bird!» Е. Витковский переводит эту фразу как оправдание птице: «Но ты, о Птица, смерти непричастна», убирая авторский восклицательный знак в конце фразы, но сохраняя возвышенное обращение «о Птица» (с большой буквы «П»)и, несмотря на пропетый на его могиле реквием, словно оставляя соловья неповинным в собственной смерти.
В переводе же Г. Оболдуева эта фраза звучит то ли с оттенком обличительной горечи, то ли сожаления о бессмертии соловья:
Ты не рожден для смерти, о бессмертный!
Тебе неведома людская боль.
Хотя текстуально immortal bird звучит как бессмертная птица, что у Г. Оболдуева ближе к оригиналу, нам кажется, что эмоциональный настрой оригинала «Оды» более верен в контексте Е. Витковского.
По нашему мнению, эти строки стихотворения являются в своем роде ключевыми, разграничивающими психическое и физическое страдание Китса – человека с его поэтическим кредо, краеугольным камнем которого является служение красоте и восхищение ею. В этой связи подход переводчика к восприятию оригинала и передаче его читателю становится принципиальным. Г. Оболдуев с его тяжелой судьбой (годы репрессий, сталинских лагерей, затем фронтовых ужасов, тяжелая болезнь после контузии) представляется человеком трагичным, где-то сломленным жизнью, что отдаляет его от поэта – романтика и делает эту версию перевода «Оды к соловью», при всей ее бесспорной привлекательности. Менее близкой к оригиналу. Хотя последние рассуждения об особенностях перевода близки к филологическим, они, на наш взгляд, еще раз демонстрируют сложность оценки психологического, эмоционального состояния, особенностей восприятия автора через перевод произведения.
В заключительной части «Оды» Китс опечален расставанием с пернатым певцом. Его восприятие уже настолько обострено, что даже слово «забвенный» «ранит слух, как колокола глас тяжелозвонный». Соловей «вдаль скользит – в молчание, в забвенье» и наступает тишина…
Что было это – сон иль наважденье?
Проснулся я – иль грежу наяву?, -
вопрошает сам себя поэт, как бы признавая, что находился где-то в другом мире, испытывая особо яркие и красивые переживания.
Таким образом, анализ стихотворений английского поэта – романтика ХIХ века Джона Китса позволяет получить представление не только о литературной ценности и романтической направленности его творчества, но и с большой долей уверенности утверждать, что сильное влияние на его поэзию оказывали как депрессивные эмоциональные переживания. Связанные с неизлечимой в то время тяжелой болезнью, так и лихорадочная обостренность синестетического и эйдетического восприятия автором окружающего мира.
1999 год.